KYC
29.09.2025
«Финансовая грамотность — это не олимпиада по экономике, а умение защитить себя»: интервью с Эльманом Мехтиевым
Эльман Мехтиев
Глава Ассоциации развития
финансовой грамотности
финансовой грамотности
Сегодня всё чаще говорят о том, что финансовая грамотность — это не просто знание терминов, а умение правильно распоряжаться деньгами, выстраивать привычки и защищать себя от ошибок и мошенников. Мы поговорили об этом с Эльманом Мехтиевым, главой Ассоциации развития финансовой грамотности.
URL скопирован в буфер обмена!
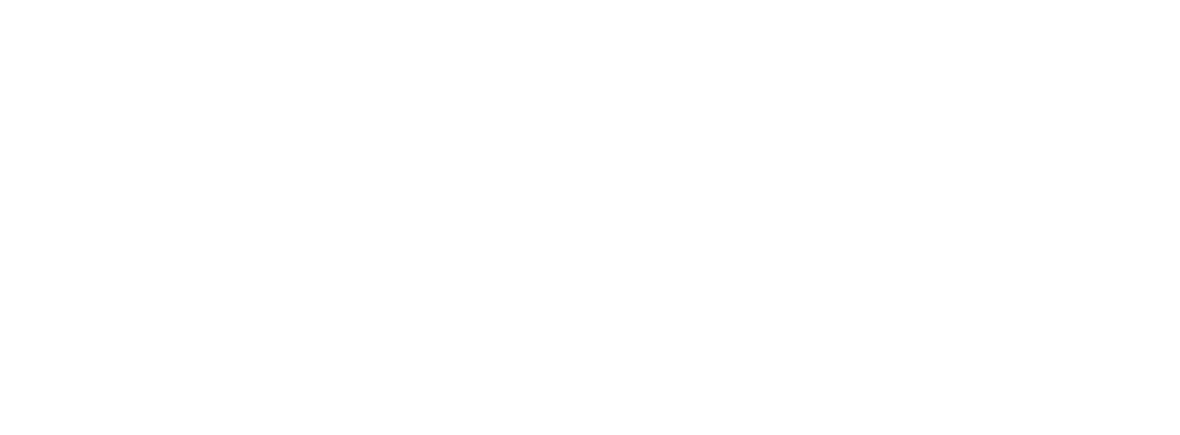
- Эльман, как вы оцениваете уровень финансовой грамотности россиян сегодня?
— Всё относительно. У нас до сих пор нет единого показателя, по которому можно было бы измерить финансовую грамотность населения. Это не уровень инфляции или курс доллара, который легко отследить. Исследований много, но они фиксируют скорее восприятие людьми собственных знаний, чем реальные навыки. Например, в кризис одни и те же люди говорят: «Мы плохо разбираемся в финансах», а в стабильные времена уверяют, что у них всё под контролем.
Важно другое: тема финансовой грамотности сегодня сместилась с теории на практику. Речь уже не только о том, чтобы люди знали базовые термины, — нужно формировать финансовую культуру, то есть устойчивые привычки. Это способность планировать расходы, анализировать последствия своих решений, откладывать средства на будущее и не попадаться на уловки мошенников.
И здесь есть важный нюанс. Финансовая грамотность — это не про блеск на олимпиаде по экономике. Это про жизнь. Если человек понимает ценность долгосрочных вложений, он не избавляется от облигаций при первом же падении рынка. А если не понимает — то будет действовать импульсивно и потеряет деньги. В итоге страдает не только он сам, но и экономика: без грамотных граждан внутренние инвестиции и рост невозможны.
Россия, кстати, одна из первых стран, которая подняла тему финансовой грамотности на международный уровень — ещё в рамках «большой восьмёрки». Сегодня это не просто образовательная инициатива, а стратегическая задача государства и бизнеса.
Важно другое: тема финансовой грамотности сегодня сместилась с теории на практику. Речь уже не только о том, чтобы люди знали базовые термины, — нужно формировать финансовую культуру, то есть устойчивые привычки. Это способность планировать расходы, анализировать последствия своих решений, откладывать средства на будущее и не попадаться на уловки мошенников.
И здесь есть важный нюанс. Финансовая грамотность — это не про блеск на олимпиаде по экономике. Это про жизнь. Если человек понимает ценность долгосрочных вложений, он не избавляется от облигаций при первом же падении рынка. А если не понимает — то будет действовать импульсивно и потеряет деньги. В итоге страдает не только он сам, но и экономика: без грамотных граждан внутренние инвестиции и рост невозможны.
Россия, кстати, одна из первых стран, которая подняла тему финансовой грамотности на международный уровень — ещё в рамках «большой восьмёрки». Сегодня это не просто образовательная инициатива, а стратегическая задача государства и бизнеса.
- А какую роль в этом процессе играет бизнес? Зачем компаниям вкладываться в просвещение клиентов?
— Роль огромная. Для компаний это не про благотворительность, а про выживание и конкуренцию. У банков, например, есть очень конкретная задача: им нужны клиенты с устойчивым финансовым поведением, с невысокой долговой нагрузкой. А сейчас таких людей среди заёмщиков — меньше половины. И за этих клиентов идёт реальная борьба.
Грамотный клиент для банка — это не только меньше проблем с невозвратами, но и длиннее жизненный цикл сотрудничества. Такой человек понимает, что кредит — это не «деньги из воздуха», умеет планировать выплаты, доверяет банку и остаётся с ним надолго.
Поэтому сегодня крупнейшие игроки внедряют сервисы «финансового здоровья» прямо в свои цифровые платформы. Там можно не только посмотреть расходы, но и оценить долговую нагрузку, получить советы по сбережениям, сравнить сценарии.
Есть ещё один фактор — доверие. Реклама работает всё хуже. Люди всё меньше верят красивым обещаниям. Но если они чувствуют, что компания реально заботится о них, предлагает полезные инструменты, помогает избежать ошибок — это формирует лояльность. Финансовая грамотность стала частью маркетинга именно потому, что без доверия продавать становится невозможно.
Грамотный клиент для банка — это не только меньше проблем с невозвратами, но и длиннее жизненный цикл сотрудничества. Такой человек понимает, что кредит — это не «деньги из воздуха», умеет планировать выплаты, доверяет банку и остаётся с ним надолго.
Поэтому сегодня крупнейшие игроки внедряют сервисы «финансового здоровья» прямо в свои цифровые платформы. Там можно не только посмотреть расходы, но и оценить долговую нагрузку, получить советы по сбережениям, сравнить сценарии.
Есть ещё один фактор — доверие. Реклама работает всё хуже. Люди всё меньше верят красивым обещаниям. Но если они чувствуют, что компания реально заботится о них, предлагает полезные инструменты, помогает избежать ошибок — это формирует лояльность. Финансовая грамотность стала частью маркетинга именно потому, что без доверия продавать становится невозможно.
— То есть раньше это было больше про PR, а сейчас — про маркетинг?
— Да, именно так. Давайте вспомним динамику. Ещё двадцать лет назад многие проекты по финансовой грамотности были скорее PR-акциями: главное — попасть в СМИ, показать, что компания «делает доброе дело». Никто толком не оценивал, что реально получили люди.
Десять лет назад финансовая грамотность стала элементом GR: компании использовали её как повод для диалога с государством, чтобы показать лояльность или открыть двери в чиновничьи кабинеты.
А сегодня ситуация изменилась. Это уже полноценный инструмент маркетинга. И речь идёт не только о красивых словах. Например, если компания проводит цикл лекций, то оценивается не количество участников, а то, как выросла узнаваемость бренда, как изменилась вовлечённость клиентов. То есть эффективность таких инициатив измеряется так же, как и эффективность рекламных кампаний.
Приведу пример. Страховая компания предложила региональным властям провести курс лекций по финансовой грамотности. Условие губернатора было простым: никаких продаж. Только просвещение. И бизнес согласился, потому что понимал: главное не продавать «здесь и сейчас», а завоевать доверие людей. В итоге выиграли все: жители получили полезные знания, компания — репутацию ответственного игрока, а государство снизило риски социальной напряжённости и долговой нагрузки.
Десять лет назад финансовая грамотность стала элементом GR: компании использовали её как повод для диалога с государством, чтобы показать лояльность или открыть двери в чиновничьи кабинеты.
А сегодня ситуация изменилась. Это уже полноценный инструмент маркетинга. И речь идёт не только о красивых словах. Например, если компания проводит цикл лекций, то оценивается не количество участников, а то, как выросла узнаваемость бренда, как изменилась вовлечённость клиентов. То есть эффективность таких инициатив измеряется так же, как и эффективность рекламных кампаний.
Приведу пример. Страховая компания предложила региональным властям провести курс лекций по финансовой грамотности. Условие губернатора было простым: никаких продаж. Только просвещение. И бизнес согласился, потому что понимал: главное не продавать «здесь и сейчас», а завоевать доверие людей. В итоге выиграли все: жители получили полезные знания, компания — репутацию ответственного игрока, а государство снизило риски социальной напряжённости и долговой нагрузки.
— А что делает Ассоциация развития финансовой грамотности? Какую роль вы видите для себя?
— Наша задача — быть площадкой, где конкуренты могут договориться о правилах игры. Государство требует, чтобы финансовое просвещение не превращалось в завуалированную рекламу. А бизнесу важно, чтобы инициативы вызывали доверие. Ассоциация выступает гарантом: мы устанавливаем стандарты, проверяем содержание программ, защищаем интересы граждан.
К примеру, один из банков обратился к нам, чтобы аккредитовать курс для школьников. Там не было рекламы, только обучение. В результате узнаваемость бренда в малых городах выросла с 30% до 50%. Это показало: если программа сделана честно и качественно, выигрывают все.
Но есть и обратная сторона. Мы следим, чтобы финансовая грамотность не превращалась в инструмент агрессивных продаж. Люди должны получать знания, а не навязанные продукты. Поэтому в будущем мы планируем расширять систему стандартов и сертификации — чтобы в этой сфере действовали прозрачные правила.
К примеру, один из банков обратился к нам, чтобы аккредитовать курс для школьников. Там не было рекламы, только обучение. В результате узнаваемость бренда в малых городах выросла с 30% до 50%. Это показало: если программа сделана честно и качественно, выигрывают все.
Но есть и обратная сторона. Мы следим, чтобы финансовая грамотность не превращалась в инструмент агрессивных продаж. Люди должны получать знания, а не навязанные продукты. Поэтому в будущем мы планируем расширять систему стандартов и сертификации — чтобы в этой сфере действовали прозрачные правила.
— Если говорить о долгосрочных целях, что сейчас в приоритете?
— Самое простое и самое сложное — приучить людей вести учёт доходов и расходов. По данным НАФИ, больше 60% россиян делают это «в уме» или в блокноте, а это фактически значит — никак. Но именно с этого начинается путь.
Учёт — это первая ступень. Потом планирование, анализ, затем — сбережения и только после этого инвестиции. Нельзя перепрыгнуть через этапы. Если человек сразу бросается в инвестиции без базовых навыков, он очень быстро «откатывается назад», теряет деньги и доверие к рынку.
Когда люди видят, что у них остаются даже небольшие суммы, они могут направить их в накопления или, например, на индивидуальные инвестиционные счета с налоговыми льготами. Это и есть путь к финансовому здоровью.
Учёт — это первая ступень. Потом планирование, анализ, затем — сбережения и только после этого инвестиции. Нельзя перепрыгнуть через этапы. Если человек сразу бросается в инвестиции без базовых навыков, он очень быстро «откатывается назад», теряет деньги и доверие к рынку.
Когда люди видят, что у них остаются даже небольшие суммы, они могут направить их в накопления или, например, на индивидуальные инвестиционные счета с налоговыми льготами. Это и есть путь к финансовому здоровью.
— Может ли грамотность защитить от мошенников?
— В какой-то степени да. Человек, который умеет критически оценивать предложения, меньше попадается на уловки. Но сегодня этого недостаточно. У мошенников тысячи схем, они экспериментируют ежедневно. И ни один банк в одиночку не может собрать все кейсы.
Поэтому будущее — за объединением усилий. Нужно развивать совместную аналитику, обмениваться опытом и данными, использовать искусственный интеллект. Но при этом важно не перегнуть палку: слишком жёсткие проверки или массовые блокировки ударят по клиентскому опыту. Баланс между защитой и удобством — ключевой вызов для отрасли.
Поэтому будущее — за объединением усилий. Нужно развивать совместную аналитику, обмениваться опытом и данными, использовать искусственный интеллект. Но при этом важно не перегнуть палку: слишком жёсткие проверки или массовые блокировки ударят по клиентскому опыту. Баланс между защитой и удобством — ключевой вызов для отрасли.
— С 2026 года кредиторам придётся подтверждать доходы клиентов. Как это изменит рынок?
— Тут всё зависит от того, как к этому подойти. Для кого-то это будет барьер: сложнее выдавать кредиты, больше проверок. А для кого-то — возможность.
Представьте: банк или МФО может предложить льготы или бонусы клиентам, которые подтверждают доходы. Это станет чем-то вроде «кэшбэка доверия». В итоге выигрывает тот, кто не воспринимает новые правила как ограничение, а превращает их в сервис.
По сути, новые требования могут подтолкнуть игроков к созданию удобных инструментов контроля финансового здоровья. А это ещё один шаг в сторону долгосрочной устойчивости рынка.
Представьте: банк или МФО может предложить льготы или бонусы клиентам, которые подтверждают доходы. Это станет чем-то вроде «кэшбэка доверия». В итоге выигрывает тот, кто не воспринимает новые правила как ограничение, а превращает их в сервис.
По сути, новые требования могут подтолкнуть игроков к созданию удобных инструментов контроля финансового здоровья. А это ещё один шаг в сторону долгосрочной устойчивости рынка.
— Получается, будущее рынка — за доверием и умением работать с данными?
— Именно. Кто-то будет сильнее в продукте, кто-то — в технологиях, кто-то — в маркетинге. Но универсальных игроков не будет. Одно ясно: финансовая грамотность уже давно перестала быть «социальным проектом». Она стала драйвером доверия и конкурентоспособности.
В конечном счёте всё сводится к простому выбору: либо вы управляете своими финансами, либо они — вами. И от того, насколько быстро это осознают и люди, и компании, зависит будущее финансовой экосистемы страны.
В конечном счёте всё сводится к простому выбору: либо вы управляете своими финансами, либо они — вами. И от того, насколько быстро это осознают и люди, и компании, зависит будущее финансовой экосистемы страны.

Посмотрите наши решения в деле


Нажимая кнопку «Записаться на встречу», вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных
Разберем ваш проект, подготовим индивидуальное решение
Рассчитаем стоимость внедрения для вашего бизнеса
Подберем продукт под ваши бизнес-потребности
Читайте еще


